 |
|
Porca Madonna
 |
 |
 |
 |
 |
|
А она говорит: "Я ненавижу твой футбол, твою кузину и то, как ты спишь!", а он говорит: "Посмотри на себя, puta, и заткнись!" А она говорит: "Я все время одна и мне говорила Сюзанна, что тебя видели с секретаршей", а он говорит: "Если ты не заткнешься, я убью тебя!" А она говорит: "Перестань смотреть туда - посмотри на меня, puto", а он говорит: Mamma mia, cazzata!
Это потому, что тем временем забили гол. И он опять кричит на нее. А она ему отвечает и летят тарелки. И с балкона летят его вещи. Или ее - неважно. А потом они орут друг другу в лицо: Ne sono cazzi tuoi, что, вообще-то, грубо, но все равно такая песня, что слова не режут ухо - они попадают прямо в сердце. И кровь кипит. Это не от жары, нет. Это потому, что любовь тут такая горячая. И ненависть тоже. И потому так похожа на нежность.
Здесь все делают сверх меры. Некатолическая страстность в комплекте с истинно католическим покаянием. И кажется, что и не грешишь вовсе, но отдаешься любви сполна. А потом, оглянувшись, решительно просишь прощения, хоть и не виноват. А потом, увлекшись, просишь еще чего-то несбыточного. Очень сильно просишь - торопишься попросить. Босыми почти ногами касаясь мраморной прохлады церкви, жаркими с улицы (потому что плюс сорок же!) плечами ерзая по дубовой скамье. Запрокидываешь голову, смотришь наверх, из витражей - самое солнце. И просишь Ее о самом главном. Обязательно Ее. Потому, что она - женщина. И если все сбывается - счастье и песня. А если нет - сжать кулаки и опять: Porca Madonna. Свинячья, да, вы не ошиблись с переводом. Это не от обиды и ничего личного. Это от досады и избытка чувств. Это очень по-южному. Очень по-итальянски.
Мир, в котором каждый живет ощущениями и грезами. Вот, скажем, иду я по улице, а сзади шепот - quella bella ragazza! И я верю и не оглядываюсь. Или почти не оглядываюсь. Мурашками на спине чувствую взгляд и знаю, да, что я, правда - самая красивая. Пока иду по этой улице. Это как сон наяву. Из тех, в которых и пробуждаться приятно. Ты заходишь с закрытыми глазами в pasticeria, выхватываешь из сверкающей витрины эту самую свежую на свете briosh в корицевем облаке. И надо только сказать - cafe per favore. И они начнут тебя будить бодрящими ароматами. Открыть глаза - все улыбаются. Утро ведь. Попросить снова кофе. Дочитать газету и выйти на улицу. Гладить каменистую кожу старинных замков, рвать из графских угодий апельсины, хохотать с официантами, шепчущими в ухо слова совершенно не кулинарного свойства. Везде просить вина и ближе к вечеру обязательно - клубничного портвейну. Потом курить на мостике. Смотреть, как электричество вытесняет усталое солнце. Подержать руку над мостовой - это камни дышат. Пить cappuccino под уличным зонтом. И воды со льдом. Услышать самую главную песню - чтобы под аккордеон пел кто-то совсем небритый. И уйти в ночь с самым из них некрасивым. Потому что от красивого можно сойти с ума. Впрочем, здесь, кажется, рассудок отбирают на въезде, вместе с багажом. Нельзя стать итальянским мыслителем - художником обязательно. Или поэтом. Потому что осмысливать здесь нечего. Надо чувствовать. Кричать, размахивать руками, не останавливаться, отстаивать, спорить, ругаться. Здесь футбол - война, а война - как футбол. Они, вы знаете, не гибнут в войнах, они, мне кажется, и умирают в постелях и кафе. Потому что список участников их сражений - Микеланжело, Данте и даже Петрарка - восхитителен. А список жертв и страницы не займет. Я думаю, они, сражаясь за свое головокружительное итальянское счастье, вставали вот так вот друг перед другом, ну знаете, с вызовом, и ругались. А потом пили молодое и даже, я думаю, немного кислое красное вино. А потом пели Nella bella Fattoria или даже Tarantell'у (обязательно с аккордеоном) и хохотали. И, может быть, кто-то даже помер от смеха или обжорства. Хотя совершенно нестрашно умереть от того, что они едят. Это как умереть от невероятного удовольствия - приятно и быстро. Как и все здесь, где всего много и все такое быстрое, что удержать в памяти затруднительно - три моря со смешливо быстрыми синими (да-да, azzuri) волнами, сто дорог в разные стороны - глаза разбегаются. Тысячи голосов - как музыка, сотни тысяч глаз - как ответ на все вопросы. И все это упрятано в миллионы улочек: strada, via, viccola и бог еще знает что. Во всем этом нельзя разобраться - можно отдаться потоку, войти в ритм чтобы никогда не оглядываться назад. В апеннинской этой круговерти, я уверена, - что-то шаманское.
Вырваться почти невозможно, даже если билет на самолет тянет руки или даже если кто-то, там, где-то далеко, все еще ждет. В какой-то момент все, кроме этого запаха, этих слов, звуков этих и этих морей с апельсинами становится совершенно неважным. Я бы хотела тут жить. Или умереть. Я вообще не понимаю, как я родиться-то смогла в каком-то другом месте.
|
|
|
 |
 |
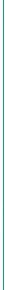 |
 |
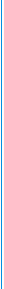 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|

