 |
|
Мир по Эйзенштейну
 |
 |
 |
 |
 |
|
Каждый интеллигентный человек, внимательно читающий надписи на стенах своего подъезда, знает, что ЦСКА - кони, Маша - дура, а кинематограф изобрели братья Люмьеры.
Все это правда, но от владения этой информацией мир понятнее не становится. Поэтому имейте в виду: "Спартак" - чемпион, Катя любит Лешу, кино придумал Сергей Михайлович Эйзенштейн.
Изобрести цианистый калий, паровоз, игру "Змейка" или кино - это только полдела. Братья Люмьер, сообразив, как можно получать с людей деньги за зрелище прибывающего поезда, так никогда и не поняли, что же именно появилось на свет в результате их кровосмесительного творческого союза. Лишь в 1898 году, через три года после знаменитого сеанса на бульваре Капуцинок, в семье рижского архитектора Михаила Эйзенштейна родился ребенок, который дал кинематографу смысл и судьбу.
В детстве он занимался фотографией, ставил любительские спектакли, но в восемнадцать лет послушно отправился в Петербургский институт гражданских инженеров - продолжать дело отца. Все изменила революция. Поступив в Красную Армию и помотавшись пару лет по стране, в августе 1920 года Эйзенштейн, наконец, приехал в Москву. И вместо того чтобы на курсах переводчиков при Академии Генштаба учить японский язык, неожиданно стал художником театра "Пролеткульт".
В театре Эйзенштейн развернул бурную деятельность. Помимо оформления различных спектаклей, он два года был слушателем и режиссером-стажером Государственных высших режиссерских мастерских под руководством Мейерхольда, потом преподавал в театральных мастерских "Пролеткульта" (в том числе и акробатику - говорят, в сорок восемь лет он оставался по-балетному пластичен) и сам ставил там пьесы.
Как всякий сильный и талантливый человек, смутно догадывающийся, что призвание его не здесь, хотя и где-то очень близко, Эйзенштейн под видом творчества занялся стремительным разрушением театра. В журнале "ЛЕФ" он опубликовал манифест "Монтаж аттракционов", где объяснял, что на публику нужно воздействовать чередой "аттракционов" - ударных элементов постановки, использующих для воздействия на публику приемы цирка, эстрады и плаката, - но то, что он делал, уже явно не было театром. Это был антитеатр, так же, как поставленный им по мотивам пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты" спектакль "Мудрец" был антиспектаклем, весьма напоминавшим описанную в "Двенадцати стульях" постановку гоголевской "Женитьбы".
В 1924 году Эйзенштейн, уставший от аттракционов и разрушений, все еще ищущий ту точку опоры и тот рычаг, с помощью которых можно перевернуть мир, принес на Житную улицу, где тогда находилась "Первая кинофабрика", сценарий и получил возможность снять кино. Так появились фильм "Стачка", режиссер Сергей Эйзенштейн и кинематограф, который мы знаем сегодня.
Фильмы Эйзенштейна пугающе современны. К ним невозможно относиться снисходительно, вежливо думая о том, что это все-таки снималось семьдесят пять лет назад. Все художественные приемы, монтаж, манера строить кадр - все это нисколько не устарело, и вряд ли вообще способно устареть по той простой причине, что именно Эйзенштейн придумал, каким должно быть кино. Он не просто сделал его искусством, он превратил его в способ творить миры. Мир кино стал не менее реальным, чем тот, в котором мы живем.
Эйзенштейна, в отличие от многих его современников, нисколько не смущал технический прогресс в кино. Он не подстраивался под изменения - он их предвидел и ждал, чувствуя себя абсолютно естественно в мире целлулоидной пленки. И можно быть уверенным, что так же легко, как от немого кино к звуковому, Эйзенштейн перешел бы и от черно-белого к цветному. Если бы дожил.
Сергей Эйзенштейн прожил всего пятьдесят лет. И хотя начал он довольно рано: свой первый фильм Эйзенштейн снял в двадцать шесть лет, а легендарный "Броненосец Потемкин", носящий полуофициальный титул "лучшего фильма всех времен и народов" - в двадцать семь, после него осталось совсем немного фильмов. "Стачка", "Броненосец Потемкин", "Октябрь", "Старое и новое", "Александр Невский" да две серии "Ивана Грозного". Даже учитывая несохранившийся "Бежин луг" и несмонтированные материалы к фильму "Да здравствует Мексика!" - очень мало для почти двадцатипятилетней карьеры классика мирового кинематографа.
Просто советская власть начала ревновать Эйзенштейна к новому миру. Очень быстро стало понятно, насколько он опасен, - Эйзенштейн был идеологическим оружием небывалой мощи (недаром сам доктор Геббельс, лучший в мире специалист по пропаганде, высоко оценивал его фильмы), но при этом абсолютно неуправляемым. То, что он делал, не было просто совокупностью приемов. После "Стачки" с ее прямолинейными метафорами стиль Эйзенштейна стал очень чистым и строгим. Все, что он позволил себе в "Броненосце Потемкине", - знаменитая детская коляска, катящаяся по лестнице в сцене расстрела, и образ поднимающегося льва (показанные подряд три каменные скульптуры - спящий лев, проснувшийся лев, поднявшийся лев), - образы уже хрестоматийные, но все равно откровенно искусственные. В "Александре Невском" и "Иване Грозном" ничего подобного уже нет. Там, конечно, оставалась тончайшая иероглифика, но она перестала быть самоцелью, тем более что невооруженным глазом уже почти не различалась. Эйзенштейн больше не монтировал аттракционы - он строил миры.
В каждом фильме ему удавалось создать реальный и объемный мир, живущий по собственным законам. До поры до времени это не слишком беспокоило советскую власть, особенно когда речь шла о создании новой мифологии. Несовершенная и ученическая "Стачка" - история стачки на одном из заводов царской России - понравилась, "Броненосец Потемкин" - почти античная трагедия о восставших матросах военного корабля в мятежном 1905 году - был принят на "ура", "Октябрь" с его штурмом Зимнего до сих пор воспринимается многими как документальное кино. Проблемы начались, когда Эйзенштейн взялся за современность. И хотя ничего откровенно крамольного он не снимал, мир, задуманный большевиками, и миры, создаваемые его воображением, начали отторгать друг друга. Снятые им фильмы не выходили на экран, заявки на новые картины не утверждались, уже отснятый материал бесследно исчезал.
В тридцатые годы Эйзенштейн уже больше путешествовал и занимался теорией кино, чем снимал. Он побывал в Западной Европе и Америке, читал там лекции, изучал кинематограф этих стран. В Москве Эйзенштейн сидел без работы и от скуки издевался над начальством, предлагая снять фильм по книге "Лука" малоизвестного писателя Баркова, запрещенной царской цензурой. Начальство обрадованно бежало в "Ленинку", чтобы потом скрипеть зубами от злобы и унижения. Лишь в 1938 году он решил снова обратиться к истории, теперь уже более удаленной во времени, сняв получивший Государственную премию фильм "Александр Невский" - про борьбу русского народа с немецко-рыцарскими захватчиками, а в годы Великой Отечественной войны посвятил себя еще более грандиозному проекту - картине "Иван Грозный".
Но все оказалось не так просто - миры Эйзенштейна не стали с годами более безопасными. Они больше не конкурировали с миром советской власти, они не пытались ни заменить его, ни изменить. Они включили его в себя как один из множества обитаемых миров. Сергей Эйзенштейн размышлял о Родине, о предательстве, о величии и трагедии тирана. Все это оказалось слишком важным для современной ему страны. "Режиссер С. Эйзенштейн во 2-й серии фильма "Иван Грозный" обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов..." (Из постановления ЦК ВКП(б), от 4 сентября 1946 года.) Вторую серию "Ивана Грозного" запретили, съемки третьей были приостановлены.
В ночь с десятого на одиннадцатое февраля 1948 года Сергей Михайлович Эйзенштейн умер от инфаркта. Рядом с ним лежал гаечный ключ, которым он стучал по батарее, чтобы снизу пришли соседи.
|
|
|
 |
 |
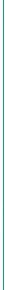 |
 |
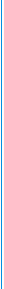 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|

