 |
|
Местечковая мелодрама
 |
 |
 |
 |
 |
|
Еврейское счастье, еврейские традиции, еврейская музыка в конце концов. Еврейская семья. Это счастье, традиции и музыка одновременно. Это очень сложно рассказывать и еще сложнее понять.
Родившись в еврейской семье, вы будете вечно помнить эту кухню с запахами, эту большую бабушкину грудь и этот странный тихий дедушкин голос, почти без напора бабушке возражающий и бормочащий себе под нос уже ничего не значащие проклятия. Вас всегда будет удивлять, отчего нельзя говорить всем разом и размахивать руками, отчего главный в других семьях мужчина, когда мудрее все равно женщина. Вы будете помнить рыбу-фиш и знать наверняка, как ее готовить, пусть даже ваш русский (тунгусский, грузинский или чеченский) муж и нюхать ее не захочет. Вы будете в сердцах говорить "азохэнвэй", уже не понимая, что это, в точности, значит. И еще. Вы страшно удивитесь в Израиле. Потому, что это не отдельная еврейская семья. Они там все - евреи. Я все же расскажу вам про свою еврейскую семью. Но даже не пытайтесь понять.
Я родилась в большом веселом южном городе с традициями, где было рукой подать до моря, люди много друг другу улыбались и щеголяли национальной терпимостью. Правда, когда моя еврейская мама привела в дом не слишком еврейского папу, бабушка всплеснула руками и сказала: "Шо ты делаешь, он нам испортит всю породу". Это - единственный национальный конфликт на моей памяти. У меня было много разных шумных родственников, пять пап, один из которых носил это почетное звание трижды. Короче, я росла счастливым первенцем молодых свободолюбивых родителей. Они увлекались педагогикой вообще и Макаренко очень сильно. Но это скучно.
Однажды одна моя бабушка рассказывала другой за семейным столом еврейский анекдот при настежь открытом окне. Обеих посадили на пять лет. Почему-то по статье "враг народа" Но это было давно.
...Сначала я много болела. Со мной оставляли "правильную" еврейскую бабушку. Она читала мне Симонова, Пушкина и кое-что из героики Маяковского. "Неправильная" еврейская бабушка пока еще жила в другом городе, поэтому часто звонила и ругала матом "правильную" за то, что меня растят в "парниковой атмосфере" и жизнь меня потом станет пугать своими "коллизеями". Да, точно, она говорила именно так.
Потом я перестала болеть и стала подавать надежды. Родители таскали меня из бассейна в музыкальную школу, из легкоатлетического манежа в кружок иностранных языков и так далее. В итоге, мне минуло шесть лет. Дедушка уже умер. Неправильная бабушка рассказала мне о своем героическом прошлом, а правильная не разговаривала с ней за это месяц. Она сказала неправильной бабушке, что я для ее "блядства" еще мала и слишком хорошо воспитана.
Еще папа сказал, что, наверное, мне не суждено быть красивой, поэтому надо стараться стать умной. Мама всплакнула и поделилась новостью о том, что я стану учиться в школе того самого писателя, который написал рассказ "Голубая чашка". Меня отдали в физико-математический интернат. Дальше - скучно.
"Неправильная" бабушка курила папиросы "Казбек", пила на кухне вино из чайника и смотрела футбол с самозабвением. Она звала нашего вратаря "Кривожопенкой", хотя вообще-то у него была другая фамилия. Неправильная бабушка крутила роман с нашим соседом по коммунальной кваритире дядей Вадей Мишелевичем и, припудривая морщины на своем восьмидесятилетнем лице, спрашивала, не видна ли отечность глаз. Сережа Кесельман из соседней еврейской семьи в это время только учился стрелять из рогатки.
Когда Сереже подарили помповое ружье, Мишелевич гулял с моей бабкой между тополей во дворе. Сережа выстрелил, Мишелевич ойкнул, бабка моя всплеснула руками. Единственная русская в доме, дворник Жабарова, процедила: Жиды жидов бьют, дожили. Бабушка дотащила на себе Мишелевича, подмигнула решительно обалдевшему Сереже и потом долго рассказывала мне о том, как много разных сторон любви есть в этом "старшем школьном возрасте". Так она звала свои 165 лет на двоих с Мишелевичем.
...Я очень хотела стать врачом. В 12 лет отправилась работать санитаркой в отделение патологии новорожденных нашего местного института акушерства и педиатрии. Медсестры учили меня курить за отделением. А старшая сестра приставила к "отказникам". Это были настолько больные дети, что родители их даже знать не хотели. Они лежали в отдельной палате. Им не давали витаминов. А медсестры из какой-то женской жестокости давали "отказникам" чудовищные имена типа Порфирия и Ксеопатры. Кстати, кажется, сейчас детям дают имена именно такого толка.
Еще мне разрешали делать уколы в вену вполне здоровым новорожденным. У них там, у виска, есть такая голубенькая венка. В нее надо вставить катетер и ввести необходимое лекарство. У меня вполне получалось, и я чувствовала себя на полпути к большой и практической медицине. Однажды всё это увидел главврач. Старшую сестру уволили с работы. Меня же просто выгнали и ничего не заплатили.
В следующие каникулы я пошла работать в отделение патологии беременных. Там была нянечка, которая каждое утро рассказывала мне о сексуальных похождениях графа Льва Николаевича Толстого. И вообще как-то отвращала от мужчин. Про это прознала моя мама. Мне запретили работать.
Но я заработала по 242 руб. 47 коп. за каждый из трех месяцев. Купила себе плеер, кассеты, сделалась поклонницей Виктора Цоя и решила не связывать свою жизнь с большой медициной. Я захотела посвятить себя искусству. Еврейская семья собралась на совет.
Мне показывали портреты сидевших членов нашей семьи и особо указывали на тех, кто из них в точности был врачом, а кто - деятелем искусства. Последних оказалось больше половины. Правильная бабушка солидаризировалась с неправильной и мне было велено принимать ухаживания хорошего мальчика Леши Суркова. "Он даром, что русский, ты посмотри какие у него могут быть перспективы". Как раз во время разговора Мишелевич умер. И неправильная бабушка побежала выражать вдове его, Зинаиде Абрамовне, всяческие соболезнования. Беседа про "правильных мальчиков" так и не была закончена. "А, делай что хочешь", -- махнул рукой мой не вполне еврейский папа.
В школе я была пионерским вожаком. Председателем совета отряда. Потом - дружины. Я заставляла одноклассников учить по ролям поэму "Владимир Ильич Ленин" к октябрьским праздникам и ни с кем особо не дружила. Потом я влюбилась в хулигана Руслана. Он ходил вечно с перевязанной головой, нюхал клей "Момент" за школой и просто волшебно ругался матом. Короче, был мужчиной. Он меня тоже полюбил, но нерешительно. Ходил за мной метрах в пяти сзади и, таким образом, провожал до дому. В перемены он ждал на черной лестнице. Мы немного целовались, держались за руки, и я пыталась вернуть его на истинный путь веселой пионерской жизни. А он внимательно смотрел на меня и спрашивал, когда мы еще будем целоваться.
Потом его избили мои одноклассники. А меня вызвала к себе завуч и говорила, что я не должна "даже близко подходить к такой швали". Руслана хотели выгнать из школы, но он ушел сам. Сказал, что хочет найти отца (по слухам, тот жил где-то в Сочи). Руслан сел в поезд. Его, конечно, поймали. Посадили в какую-то детскую комнату. Он сбежал и обокрал с приятелями ларек "Союзпечати". Его посадили в колонию. Там его кто-то сильно бил в печень. Много лет спустя, я узнала об этом и о том, что Руслан умер.
А пока я не знала. И думала, что он в Сочи, что мои одноклассники ( и завуч тоже) - скоты. Я перестала ходить на пионерские собрания и участвовать в жизни школы. Меня изгнали из пионеров и грозили, что не возьмут в комсомол. Особо упирали на всеобщее наше семейное еврейство. Потом комсомол кончился, перестройка пришла в наш южный город. Я браво закончила физику с математикой с серебряной медалью, гарантирующей разнообразные льготы в вузах. Семья молчала до самого конца. Потом меня вызвали на кухню. К этому круглому столу с бахромой, к низкому абажуру, впитавшему в себя все запахи нашей кухни. И бабушка сказала: "Так нельзя, милая. Я понимаю, любовь, но комсомол на карту ставить нельзя. Ты пойми это, а то потом будет поздно". Неправильная бабшука выргалась матерно и объявила всем, что намерена уехать в Жидовню. Это был самый печальный в нашей семье вечер.
Мой муж был трубач. У него глаза были цвета моря, а профиль римский. Мы познакомились еще, когда я училась в школе. Он говорил со мною тихим голосом, водил на экзамен по музыке и вообще был "смуглым отроком" с картин и из стихов. Это была настоящая первая любовь с нежностью и дрожью в голосе и хрестоматийным развитием сюжета: прохладная беглость рук и запах моря, смешанный с запахом тела, от которого кружится голова и слова теряют смысл абсолютно.
Свадьба была веселой. Бабушка сцапала свадебную водку в свой белый ридикюль. И в разгар самый свадьбы треснула, показавшегося ей наиболее опасным типа по голове этим самым водочным ридикюлем. Типом оказался свидетель. Свадьба удалась. Потом он перестал быть трубачом, стал бизнесменом и начал спать с какой-то из своих бывших старост. Она позвонила мне скрипучим голосом и сказала, что вот так, мол, киса. Я ужаснулась "кисе", смело поступила в университет и уехала учиться в заграничную страну. Дальше мелодраматично и немного скучно. Если бы не семья.
Бабушка из Жидовни приехала погостить. Я катала ее на таксомоторе. Она хвастала свежекупленными чулками и теперь уже совершенно законно материла советскую власть. Она ни в грош не ставила перемены, о которых я ей взахлеб рассказывала. А потом деловито осведомилась: "И почем мы тут покатались" - "60 рублей", -- говорю. "Сколько это в долларах?" - "Ну... где-то десять" - "А в шеккелях?",-- "Послушай, я не знаю", -- "Ну хорошо", не сдавался бабусик, -- "Скажи мне, что на это можно купить?" - "Презервативов пачку", -- злюсь.А она невозмутимо спрашивает: "С усиками?".
Потом мы все вместе ездили в Израилевку. Субботним вечером обе бабушки рубили мясо на отбивные: "Тише ты", -- говорила одна другой, -- "У евреев шабат". Когда все собрались за столом, стали звонить тем, кто не смог приехать. В Киев, в Полтаву. Даже в Италию звонили. Все говорили одновременно и припоминали старое. Меня, в частности, попрекали несостоявшимся замужеством с хорошим мальчиком Сурковым.
Это был 90 и 75-летний юбилей бабушек. Потом одна умерла, а другая ослепла. Еврейское правительство подарило ей квартиру, и она сочла это оскорблением. "Нет ты представь", -- кричит в трубку, -- "Тут же все есть и телевизор и холодильник и даже стенка, а я не могу порадоваться обстановке - ни черта не вижу". Она больше не готовит рыбу фиш, но исправно выясняет, помню ли я рецепт. Помню. Помню ли я традиции? Помню. Не собираюсь ли я, наконец, выйти замуж за кого-нибудь хорошего, порядочного и надежного? Собираюсь. "Ты смотри", -- говорит, -- "поторапливайся, чтобы этот твой избранник хоть хвост нашей семьи застать успел. Теперь таких семей не делают".
Факт.
|
|
|
 |
 |
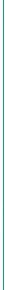 |
 |
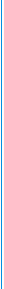 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|

