 |
|
Мизерное солнце
 |
 |
 |
 |
 |
|
Ты можешь относиться к нему как угодно. Тебе даже может казаться, что вы не имеете друг к другу никакого отношения. Но это не так. Ты - его ребенок, и с этим ничего не поделаешь. Он до сих пор смотрит на тебя практически на каждой станции метро. Любить его ты опоздал, ненавидеть его уже не за что. Так кто же он? Кем он был? Зачем ему нужен был такой ты?
Я скажу тебе, кто он: самый человечный человек. Ты где-то это уже слышал? Правильно. Но находил ли ты этому подтверждение? Тот, кто лежит в мавзолее, не похож на человека. Долгие годы из него делали идола, таким он и остался в нашем сознании. Гигант, свершивший революцию. Гриб, немецкий шпион, друг детей, сумасшедший, гений...
А он был живой. Катался на велосипеде, лазил по горам, ходил на охоту...
У него действительно была идея, и он не готов был пожертвовать собой, нет. Ради нее надо было выстоять, выжить и воплотить ее в жизнь. И у него все получилось.
Его не интересовали деньги, слава, люди с их бедами и радостями. Вряд ли его интересовала власть как самоцель. Просто он был великий философ-практик, и ему было жизненно важно, чтобы его идеи материализовались.
Любой ценой, даже ценой твоей жизни.
Владимир Ильич очень любил брата. Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, и когда заходил к ним кто-либо из многочисленной молодежи, у мальчиков была излюбленная фраза: "Осчастливьте своим отсутствием".
Зимою 1894/95 г. я познакомилась с Владимиром Ильичом уже довольно близко.
Из всей нашей группы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части конспирации: он знал проходные дворы, умел надувать шпионов...
Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах.
Когда Владимир Ильич вышел из тюрьмы, я еще сидела.
В ссылке
Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин, которого он очень любил, Журавлев. Чахоточный, лет тридцати, Журавлев был раньше писарем. Журавлев смело выступал против богатеев, не мирился ни с какой несправедливостью. Он все куда-то уезжал, и скоро помер от чахотки.
Другой знакомый Ильича был бедняк, с ним Владимир Ильич часто ходил на охоту. Это был самый немудрый мужичонка - Сосипатычем звали; он, впрочем, очень хорошо относился к Владимиру Ильичу и дарил ему всякую всячину: то журавля, то кедровых шишек.
Одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест - покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю.
С утра мы брались за перевод Вебба, который достал мне Струве.
Поработав, закатывались на прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником, завел себе штаны из чертовой кожи и в какие только болота не залезал.
Осенью идем по далеким просекам. Владимир Ильич говорит: "Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять, ремня не взял, неудобно будет нести". Выбегает заяц, Владимир Ильич палит.
В общем, ссылка прошла неплохо.
Мюнхен
Бродили мы по окрестностям Мюнхена весьма усердно, выбирая места подичее, где меньше народа.
Жили мы в одном отеле, кормились вместе, и время прошло как-то особенно хорошо. Только иногда чуть, капельку, проскальзывала разница в подходах к некоторым вопросам.
Жизнь в Лондоне
Когда приехали в Лондон, оказалось - ни мы ни черта не понимаем, ни нас никто не понимает. Владимира Ильича это забавляло, но в то же время задевало за живое.
По каким только собраниям мы не шатались!
Владимир Ильич сейчас же устроился работать в Британском музее. Он обычно уходил туда с утра, а ко мне с утра приходил Мартов, мы с ним разбирали почту и обсуждали ее. Таким образом Владимир Ильич был избавлен от доброй доли так утомлявшей его сутолоки.
Когда у Владимира Ильича появилась сыпь, взялась я за медицинский справочник. Выходило, что по характеру сыпи это - стригущий лишай.
Женева
В Женеве мы поселились в пригороде - целый домишко заняли: внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленькие комнатушки.
Толчея у нас сразу образовалась непротолченная.
Когда Владимир Ильич был уже тяжело болен, он мне как-то грустно сказал: "Вот и Мартов тоже, говорят, умирает".
Владимир Ильич перед съездом Лиги, задумавшись, наехал на велосипеде на трамвай и чуть не выбил себе глаз.
Помню, как мы втроем - Владимир Ильич, Коняга и я - стояли вечером на берегу разбушевавшегося Женевского озера.
Порвался роман с Натансоном.
Мы с Владимиром Ильичом взяли мешки и ушли на месяц в горы.
Питер и Финляндия
В подполье мы залезали. Плели сети конспиративной организации.
Ильич маялся по ночевкам, что его очень тяготило.
Была белая майская возбуждающая питерская ночь. С собрания Ильич пошел ночевать к Дмитрию Ильичу Лещенко.
Пока я возилась в Питере, Ильич чуть не погиб при переезде в Стокгольм. Дело в том, что его выследили так основательно, что ехать обычным путем, садясь в Або на пароход, значило наверняка быть арестованным. Кто-то из финских товарищей посоветовал сесть на пароход на ближайшем острове. Это было безопасно в том отношении, что русская полиция не могла там заарестовать, но до острова надо было идти версты три по льду, а лед, несмотря на то что был декабрь, был не везде надежен. Не было охотников рисковать жизнью, не было проводников. Наконец Ильича взялись проводить двое подвыпивших финских крестьян (Гидеон Сёдерхольм и Сванте Бергман), которым море было по колено. И вот, пробираясь ночью по льду, они вместе с Ильичом чуть не погибли - лед стал уходить в одном месте у них из-под ног. Еле выбрались.
"Как мизерны стали вдруг наши недавние "теоретические" споры, освещенные прорвавшимся теперь ярким лучом восходящего революционного солнца!"
Женева
Деньги нужны были до зарезу.
Трудно было нам после революции вновь привыкнуть к эмигрантской атмосферке. Целые дни Владимир Ильич просиживал в библиотеке, а вечером мы не знали, куда себя приткнуть. Сидеть в неуютной холодной комнате, которую мы себе наняли, было неохота, тянуло на людей, и мы каждый день ходили то в кино, то в театр, хотя редко досиживали до конца, а уходили обычно с половины спектакля бродить куда-нибудь, чаще всего к озеру.
Опять засел Ильич за философию.
В Париже пришлось провести самые тяжелые годы эмиграции. О них Ильич всегда вспоминал с тяжелым чувством. Не раз повторял он потом: "И какой черт понес нас в Париж!"
Париж
Владимир Ильич смотрел отсутствующими глазами на всю нашу возню с домашним устройством в новом логовище: не до того ему было.
С ездой на велосипедах в Париже и под Парижем нужна была большая осторожность. Раз Ильич по дороге в Жювизи попал под автомобиль, еле успел соскочить, а велосипед был совершенно изломан.
Вред религии понял Ильич еще пятнадцатилетним мальчиком. Сбросил с себя крест, перестал ходить в церковь. В те времена это было не так просто, как теперь.
Он ненавидел всякое богостроительство, ибо считал всякую религию дурманом для масс, а он не мог стерпеть, чтобы кто-нибудь морочил голову массам.
Совещание взяло немало сил у Ильича, и после совещания необходимо было поехать и ему куда-нибудь пожить на травке, туда, где не было эмигрантской склоки и сутолоки.
Любил Ильич ходить в театр на окраины города, наблюдать рабочую толпу. Помню, мы ходили раз смотреть пьесу, описывающую истязания штрафных солдат в Марокко.
Ликвидаторы, как грибы, росли и справа, и слева.
С группой кавказских большевиков у нас всегда была особенно дружная переписка.
Мы нанимали пару комнат в двухэтажном каменном домишке у рабочего-кожевника и могли наблюдать быт рабочего мелкого предприятия. Рано утром уходил он на работу, приходил вечером совершенно измученный. При доме не было никакого садишка. Иногда выносили ему на улицу стол и стул, и он подолгу сидел, опустив усталую голову на истомленные руки. Никогда никто из товарищей по работе не заходил к нему. По воскресеньям он ходил в костел, возвышающийся наискось от нас. Музыка захватывала его.
Больше всего французов удивляло, что наши учителя ходят сплошь и рядом босиком (жарища тем летом стояла невыносимая).
Помню, как они лежали на траве в логу за селом, и Ильич развивал Каменеву свои мысли.
В октябре покончили с собою Лафарги. Эта смерть произвела на Ильича сильное впечатление. Ильич говорил: "Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги. И хотелось ему сказать над телом Лафаргов, что недаром прошла их работа, что дело, начатое ими, дело Маркса, ширится, растет и перекидывается в далекую Азию. В Китае как раз поднималась в это время волна массового революционного движения.
Ильич стал другим, сразу стал гораздо менее нервным, более сосредоточенным, думал больше о задачах, вставших перед русским рабочим движением.
Буря, это - движение самих масс.
Удобнее было в полицейском отношении.
Владимир Ильич повеселел, особенно внимателен был к остающимся товарищам. Наша квартира превратилась в проходной двор.
Краков
Краков Ильичу очень понравился, он напоминал Россию.
Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю...
В краковский период мысли Владимира Ильича шли уже по линии социалистического строительства.
После совещания Ильич писал Горькому о Сталине: "У нас один грузин засел и пишет для "Просвещения" большую статью..."
Только перед этим пришла из дому посылка со всякой рыбиной - семгой, икрой, балыком; я извлекла по этому случаю у мамы кухарскую книгу и соорудила блины. И Владимир Ильич, который любил повкуснее и посытнее угостить товарищей, был архидоволен всей этой мурой. По возвращении в Россию 22 февраля Сталин был арестован в Петербурге.
К библиотекам краковским Владимир Ильич плохо приспособился. Начал было кататься на коньках, да пришла весна.
Его сожители по тюрьме называли Ильича "бычий хлоп", что значит "крепкий мужик". "Бычий хлоп" постепенно акклиматизировался в тюрьме Нового Тарга и приходил на свидание более спокойным и оживленным.
Берн
Ильича тянуло на старое пепелище, в привычное место - в Женеву.
Иногда мы часами сидели на солнечном откосе горы, покрытой кустарниками. Ильич набрасывал конспекты своих речей и статей, я изучала по Туссену итальянский язык. Инесса шила какую-то юбку и грелась с наслаждением на осеннем солнышке - она еще не до конца оправилась после тюрьмы.
"Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это - обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война".
И приехал Ильич с Цимервальдской конференции порядочно-таки нервным. На другой день полезли мы на Ротхорн. Лезли с "великоторжественным аппетитом", но когда влезли наверх, Ильич вдруг лег на землю, как-то очень неудобно, чуть не на снег, и заснул.
Приехала как-то в Берн русская труппа, игравшая на немецком языке; ставили пьесу Л. Толстого "Живой труп". Мы тоже пошли. Играли очень хорошо.
Удить рыбу, развешивать белье - дело неплохое, и Ильич не раз кастрюлю с молоком сторожил, чтобы молоко не убежало, но когда белье и удочки мешали поговорить о самом нужном, об организации левых, не очень это было ладно.
Цюрих
Жили мы в Цюрихе, как выражался Ильич в одном из писем домой, "потихоньку".
Он много рассказывал очень интересного.
"Необходимо ясно и определенно указать массам их путь. Надо, чтобы массы знали, куда и зачем им идти".
Владимир Ильич, любивший утром поспать, ворчал и плотнее закутывался в одеяло с головой.
В числе отдыхающих был солдат. Парень был довольно славный. Владимир Ильич ходил вокруг него, как кот около сала, заводил с ним несколько раз разговор о грабительском характере происходящей войны, парень не возражал, но явно не клевало.
Спускаясь вниз через лес, Владимир Ильич вдруг увидел белые грибы и, несмотря на то что шел дождь, принялся с азартом за их сбор, точно левых циммервальдев вербовал.
Идя из библиотеки, Ильич обычно покупал две голубые плитки шоколада с калеными орехами по 15 сантимов, после обеда мы забирали этот шоколад и книги и шли на гору. Было у нас там излюбленное место в самой чаще.
Так жили мы в Цюрихе, помаленьку да потихоньку, а ситуация становилась уже гораздо более революционной.
"Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции".
|
|
|
 |
 |
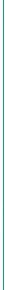 |
 |
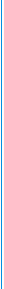 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|

